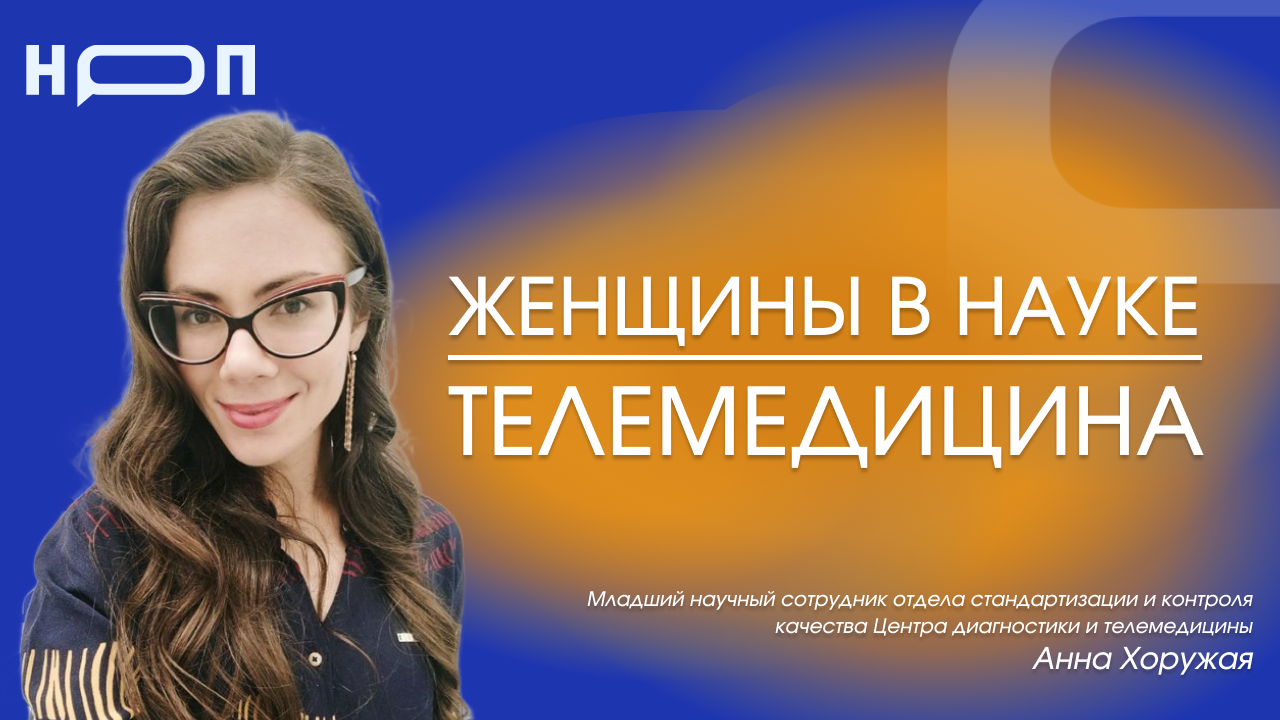Женщины в науке: телемедицина
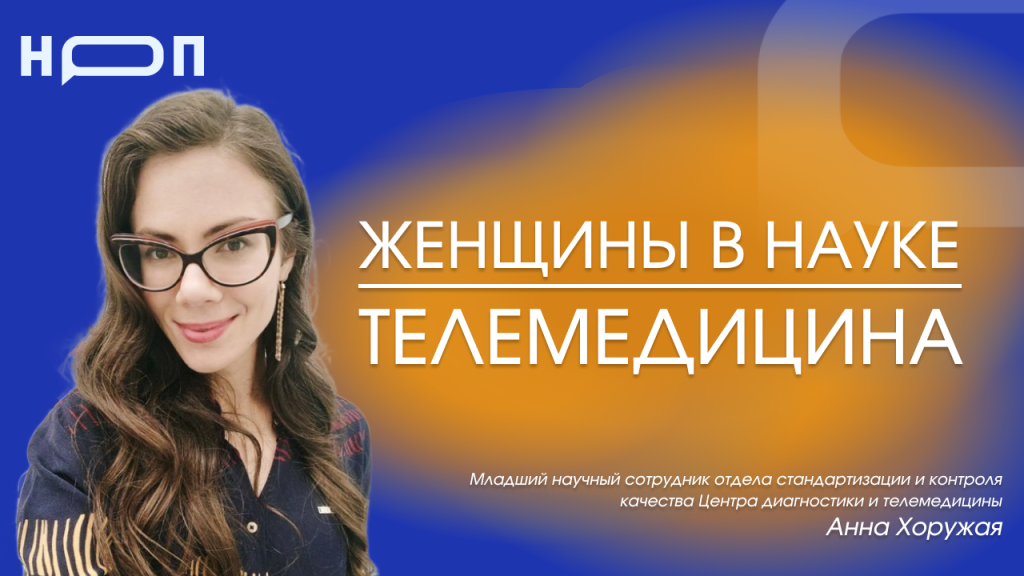
Интернет и айти, искусственный интеллект и федеральная поддержка в телемедицине, лучевой диагностике и здравоохранении в целом – есть. Как сегодня работают профи медицины с нейро нам объяснила младший научный сотрудник отдела стандартизации и контроля качества Центра диагностики и телемедицины Анна Хоружая.
Анна делится, что сейчас в организациях, например, как ее место работы, можно «бесшовно» совмещать смежные виды деятельности и при этом комфортно себя чувствовать по жизни.
1. Анна, Вы работаете на стыке медицины, ИИ и лучевой диагностики. Как Вы оцениваете потенциал искусственного интеллекта в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» и его интеграции в здравоохранение, особенно с учётом задач, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития России?
Оцениваю очень позитивно. В целом, работаю я в таком междисциплинарном профиле уже 6 лет, и за это время прямо перед глазами разворачивалась картина самого настоящего изменения реальности — будущее действительно стало настоящим.
Сначала, в 2019 году, были робкие попытки в рамках отдельных сессий на профильных конференциях сравнивать интеллект врачебный и искусственный в рамках игровых сессий. «Соревнования» проводились по определению любой патологии легких на рентгенографии, рака легких на КТ и рака молочных желез на маммографии. Тогда способности ИИ оставляли желать лучшего; лучше всего справлялись с диагностическими задачами ИИ-сервисы для обнаружения рака легких на КТ. Но такие мероприятия носили скорее развлекательный характер, нежели реально могли что-то продемонстрировать. Как тогда отмечал заместитель директора по науке нашего Центра Антон Вячеславович Владзимирский: «Если ИИ не встроен в клинический процесс, то он превращается в бесполезную игрушку». Поэтому проверять его нужно в реальных условиях.
Так в 2020 году стартовал Московский эксперимент по применению алгоритмов компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, что дало толчок развитию ИИ-сервисов, предназначенных для диагностики заболеваний по медицинским снимкам. Это стало возможным благодаря существующей архитектуре Единого радиологического информационного сервиса Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС), в которой все диагностическое оборудование, расположенное в московских больницах и поликлиниках, объединено в сеть, и есть в этой сети звенья, к которым можно подключать программное обеспечение на основе ИИ.
Параллельно разрабатывались требования к ИИ-сервисам, ставились клинические задачи, создавались как методология тестирования, так и наборы данных для него. Перед тем как допустить ИИ-сервисы до клинического потока диагностических исследований, его нужно проверить на этих исследованиях — насколько хорошо они соблюдают диагностические требования, насколько полон их функционал, насколько технически корректно они работают. Также была разработана методика промежуточных ежемесячных мониторингов, которые позволяли оценивать эффективность ИИ-сервисов во времени, что очень важно для анализа их стабильности: своевременная и регулярная обратная связь от врачей-экспертов позволяла разработчикам исправить те или иные ошибки, которые проявляются только в рамках работы в разных медицинских учреждениях и на разном оборудовании. Мы видели, как ИИ-сервисы совершенствуются, улучшают свои диагностические показатели. При этом мы оценивали, как к нововведениям относятся врачи, и как меняется их мнение от негативного на старте к позитивному.
Мы расширяли список клинических задач и вводили в Московский эксперимент новые клинические направления, реализовали требования для комплексных сервисов, потому что понимали, что врачам гораздо удобнее пользоваться одним ИИ-сервисом с широким диагностическим функционалом, нежели десятком однозадачных. В 2023 году появилась первая в стране услуга диагностики медицинских снимков с помощью ИИ, которая оплачивалась из территориального Фонда ОМС в Москве. Также в прошлом году впервые был проведен эксперимент с применением автономного ИИ в рентгенографии легких. Это значит, что если ИИ-сервис со 100%-й чувствительностью не находил никакой патологии на снимке, то описание сразу загружалось в электронную медицинскую карту пациента, минуя пересмотр врачом. Могу сказать, что этот эксперимент полностью оправдал себя. Подобный подход может стать важной подмогой в регионах с недостатком квалифицированных рентгенологов.
Параллельная научная и экспертная работа в течение 5 лет целой плеяды специалистов при непосредственном участии нашего Центра легла в основу десятков методических рекомендаций, монографий и государственных стандартов, которые призваны регулировать ИИ в здравоохранении на всех этапах. В 2024 году Центр посетил Владимир Владимирович Путин, которому представили процесс работы ИИ-сервисов, и итогом визита стало поручение распространить эти практики в регионы. После этого на базе нашего Центра была развернута платформа «МосМедИИ», которая содержит только проверенные и качественные ИИ-сервисы. На сегодня к ней уже подключено 70 регионов — это больше 1220 медицинских организаций по всей стране, врачи-рентгенологи которых могут пользоваться результатами работы ИИ.
Понятно, что лучевой диагностикой медицинский ИИ уже не ограничивается, и есть прекрасные кейсы внедрения в регионы систем поддержки принятия врачебных решений, но область медицинской визуализации на сегодня самая проработанная.
2. Ваша специализация — нейровизуализация. Какие наиболее значимые вызовы стоят перед исследователями в области нейроИИ в России сегодня, и как Центр диагностики и телемедицины участвует в их решении?
Думаю, что основной вызов как в нейровизуализации, так и в других субспециальностях для ИИ — это доказательство его клинической эффективности, влияния на пациентов напрямую. Главный вопрос, на который до сих пор ответы крайне скудны даже в мировой науке — какую реальную клиническую пользу приносит этот применяемый на практике «умный», но все же инструмент. Он сокращает время от диагностики до принятия клинического решения? Обращает внимание врача на неотложные случаи, за описание которых необходимо браться в первую очередь? Помогает в рамках скрининга обнаружить те потенциально патологические находки, которые при обычной диагностике могут пропускаться? Пациент от этого быстрее выздоравливает, меньше впоследствии обращается к врачу и вовремя проходит лечение, не доводя себя до запущенного состояния и гибели? Вопросы сложные, многогранные, и лучшие ответы на них могут дать только мультицентровые исследования, которым как раз является запущенный в нашем Центре 5 лет назад Московский эксперимент.
В рамках него действуют сейчас 5 клинических направлений в области «нейро»: диагностика кровоизлияний и ишемических инсультов на КТ мозга (комплексное направление), рутинные измерения на КТ (морфометрия), диагностика рассеянного склероза, внутричерепных новообразований, рутинные измерения мозга (морфометрия) на МРТ и диагностика сосудистых патологий на КТ-ангиографии и постконтрастной КТ.
В нашей научной работе мы не просто наблюдаем за ИИ-сервисами в динамике и оцениваем их метрики, но еще и стараемся отвечать на эти вопросы о клинической эффективности. Например, занимаясь внутричерепными кровоизлияниями, я пришла к выводу, что врачи-рентгенологи диагностируют эту патологию очень хорошо, с высокой чувствительностью и специфичностью, но все-таки очень редко пропуски случаются, которые потенциально могут осложнить состояние пациента и его выздоровление. Бóльшая польза от ИИ-сервисов здесь будет в отсроченном пересмотре всех тех кейсов, которые ИИ обнаружил и разметил как положительные, например, в конце смены — чтобы он не отвлекал от напряженного потока пациентов в приемном отделении больницы, но и не позволил в аврале упустить какое-нибудь небольшое кровоизлияние.
3. Вы активно занимаетесь научной журналистикой и популяризацией медицины. Как Вы считаете, насколько эффективно в нашей стране сегодня развивается «научная коммуникация», особенно в контексте задач, зафиксированных в «Основах государственной политики в области научно-технологического развития»?
Поскольку в этой области я тружусь даже дольше, чем в практической медицине (больше 10 лет), то имела возможность наблюдать, как от пренебрежения необходимостью рассказывать о своих научных достижениях ученые и научные организации уверенно сдвинулись к взгляду «рассказывать обязательно!». Понятно, что этому способствовали предпринятые государственные меры, но начиналось все во многом «снизу» — с отдельных инициатив (научных редакций, студенческих проектов и т. д.), которые подхватывались, транслировались и масштабировались. Мне сложно оценивать «эффективность» этого процесса, поскольку я не владею метриками, а иной раз и принятые метрики лишь косвенно отражают реальность. Но я с радостью замечаю тягу к знаниям, немыслимо разросшееся количество научпоп-проектов и большую волну интереса к науке среди молодых людей, которая с каждым годом становится лишь больше.
4. Вы совмещаете клиническую и исследовательскую работу. Насколько, на Ваш взгляд, в России сейчас выстроена поддержка молодых ученых-практиков, особенно женщин в науке? Какие меры могли бы усилить эту поддержку?
Наверное, мне здесь повезло — мое место работы позволяет, как сейчас модно говорить, «бесшовно» совмещать оба вида деятельности и при этом комфортно себя чувствовать по жизни. Насколько мне известно, для молодых ученых из разных сфер есть довольно много проектов поддержки — соответствующие гранты РНФ для молодых ученых (конкурс инициативных проектов, конкурс научных групп), отраслевые конкурсы и гранты крупных корпораций, междисциплинарные хакатоны, программы в рамках «Приоритета 2030» и «ПИШ». Также существуют проекты, облегчающие поиск оборудования или расходников по импортозамещению, куда также могут встраиваться те молодые исследователи, которые занимаются в том числе прикладными производственными задачами. Знаю, что многие знакомые также воспользовались программой получения жилья для молодых ученых, которая была запущена Министерством науки и высшего образования не так давно.
5. Женщины всё чаще занимают заметные позиции в науке, но разговоры о так называемом «стеклянном потолке» не утихают. Сталкивались ли Вы с подобным явлением в своей профессиональной деятельности? И как, на Ваш взгляд, можно системно менять ситуацию, чтобы научная среда становилась более инклюзивной и поддерживающей?
Честно говоря, ни разу не сталкивалась с дискриминацией по половому признаку ни в университете, ни в ординатуре, ни в дальнейшей работе. Но знаю, что это реальная проблема для многих. Я искренне сочувствую тем девушкам, которые прорываются сквозь это, и считаю, что создание отдельных конкурсов для женщин или искусственное квотирование, которое иногда воспринимается как снижение планки — это неэффективно. Важнее создавать условия для объективной оценки достижений: слепые рецензирования исследований, развитие корпоративных программ поддержки молодых ученых с акцентом на навыки нетворкинга и публичных выступлений.
Ключевой момент — формирование культуры, где успех определяется исключительно профессиональными компетенциями, а институты открыто анализируют статистику по карьерному росту и зарплатам, чтобы не было каких-то скрытых дисбалансов. Параллельно можно пересмотреть систему родительских отпусков и гибкого графика для ученых, делая их гендерно-нейтральными — это снизит давление на женщин в периоды жизненных изменений и побудит мужчин активнее участвовать в семейных обязанностях, создавая более справедливую среду для всех.
6. Какие советы начинающим женщинам-ученым дадите?
Такие же, какие бы дала начинающим ученым-мужчинам: быть любопытными, пробовать и искать «свою» сферу и «свою» тему, от которой будете получать удовольствие, больше ошибаться, чтобы научиться справляться с ошибками и не бояться их, больше выступать и тренировать ораторское мастерство, учиться грамотно пользоваться ИИ и четко понимать, где он может принести пользу и где его ограничения, а также постоянно напрягать собственное серое вещество. Обучаемость, то есть способность анализировать много информации и извлекать из нее самое нужное — это тоже навык, требующий практики, и худшим раскладом для исследователя будет его потерять.